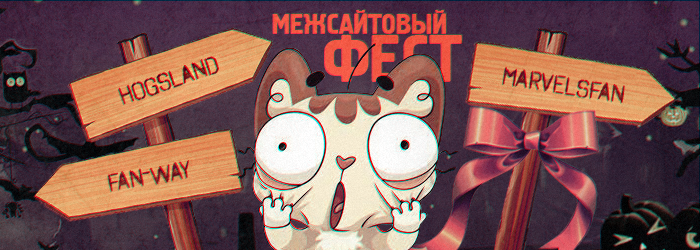Крик отдается эхом. Чертову тысячу раз.
Тело болезненно-резко дергается, когда ее собственный вопль, ослабленный множеством повторений, отскакивает от мокрых, пропитанных смертью стен и оглушает ее.
И так по кругу.
На нее смотрят глаза. Она отворачивается от них, зажимается в угол, и все равно видит эти пустые и холодные глаза даже сквозь собственные веки. Глаза цвета сладкой, тягучей карамели, светло-карие. Они смотрят, и взгляд оставляет на теле дыры – аккуратные, симметричные, как от двух вбитых в кожу гвоздей. В кожу, мышцы, кости… Вплоть до черепа, до подкорки сознания, до мыслей.
А потом как будто толчок. Прямо в солнце, изо всех сил
Она стоит, прижавшись всем телом к решетке, а спустя секунду уже летит откуда-то вниз. Ожидаемого удара не следует, вместо этого – мягкое, невесомое, не ощутимое практически погружение в толщу воды.
Дна не видно. Поверхности тоже. Вода очень темная, почти черная, и нельзя разглядеть даже собственных рук, которыми она хаотично машет, пытаясь выбраться. Через бесконечно-долгую минуту воздух в легких заканчивается, и приходится разомкнуть губы, впуская внутрь жидкость. У воды почему-то привкус железа.
Вода на самом деле – алая.
Крик не разлетается эхом. Крик заглушает подушка, в которую зубы вцепились так, что ноют и болят десны.
Перед глазами все еще взгляд, вбивающийся в ее тело тупой агонией.
Во рту все еще вкус металла.
Всего лишь кошмар. Двадцать седьмой за последний месяц. Равнодушные красные цифры на прикроватных часах показывают, что до конца сухого, пропитанного солнцем августа остается еще три дня. Три ночи. Три кошмара.
– Что вы чувствуете, Джордж?
– Ничего.
Молчание. Шелест пергамента в папке врача, тогда еще незнакомого, короткий кашель и съезжающие с потной переносицы очки. Раздражение и вдох через сжатые до боли зубы.
– Человек, который ничего не чувствует – психопат, Джордж. Вы же не психопат?
Смех доносится откуда-то со дна ямы, что вырыта в душе собственными руками, выгрызена зубами. Психопат, еще какой. И как же раздражает это убийственно-ласковое постоянное обращение по имени, предназначенное для сближения пациента с врачом, установления личного контакта. Каждое «Джордж», срывающееся с полных, сухих губ психиатра, отшвыривает его от Джорджа на несколько метров в подсознании.
– Что вы чувствуете?
Прищур глаз из-под челки отросших медных волос.
– Вам когда-нибудь швыряли под ноги ваши органы, доктор? Все разом, все еще продолжающие сокращаться?
Подавленный кашель врача на вдохе.
– Н-нет.
– Именно это я чувствую.
Время проматывается вперед так быстро, что, будь жизнь записанной пленкой, она бы разорвалась от скорости, с которой ее крутит катушка проигрывателя. Ночные крики и много алкоголя, помятый вид и первые сигареты, сдирающие с непривычки слизистую горла. Тревожные взгляды родных, постоянное, неизменное, оглушающее чувство потери, когда каждое пробуждение – с надеждой и уверенностью, что все произошедшее лишь кошмарный сон.
Шарящие по постели в поисках знакомого тепла руки.
Выкручивающая боль.
Первый сеанс.
Потому что «мы переживаем», «братишка, ты совсем плох последнее время», «доктор Моррисон потрясающий», «тебе станет легче». Потому что «он хотел бы, чтобы ты жил дальше». Ни хе-ра никто не знает, чего он хотел. Жить он хотел. Дышать, есть, спать, веселиться, любить, трахаться. Жить, а не подыхать ради сомнительной борьбы за чью-то гребаную правду.
Джордж все равно идет на тот долбанный первый сеанс. Потому что мама плачет и умоляет, а Билл опускает тяжелую руку на плечо и давит до хруста, так сильно, что ключица, кажется, врезается в легкое.
А затем на второй.
А затем:
– Джордж, я думаю, вам нужно посещать групповую терапию.
– Зачем?
– Ваше руководство потребовало у меня справку о вашей дееспособности.
Удар под дых и разом закончившийся воздух.
– А я могу ее предоставить, только пока вы находитесь под наблюдением, потому что, мне жаль, Джордж, но вы больны.
– Да… Конечно.
И затем еще множество сеансов: наедине и среди толпы. Порой даже откровений, случайных, слетающих с губ, прорывающихся сквозь упрямое нежелание с кем-то делиться.
А потом постепенное излечение. Постепенное привыкание к мысли, что вся жизнь в течение последних месяцев не кошмар, не сон и не чья-то придурь, а вполне себе реальное дерьмо. Настоящая смерть. Настоящая пустота внутри, расползающаяся постепенно, раздвигающая внутренние органы своими темными лапищами и занимающая все пространство под кожей. И никуда от этого не денешься.
Осознание того, что мир вокруг не останавливается. Не меняется.
Проходит еще время, и на место пустоте приходят злость, агрессия, обида, попытки упиться, обдолбаться до беспамятства. Никакого эффекта. В памяти выжжены голос, образ, теплота рук и переливчатый смех.
И еще немного времени. Череда девушек и женщин в постели и жизни, и все равно ни с кем нет того самого, что убедило бы доктора в полнейшем здравии пациента.
Затем смирение. В конце концов, тратить восемь часов в месяц на то, что дает окружающим спокойствие и заставляет не дергаться каждый раз при упоминании о погибшем брате, – не такая уж большая жертва.
И наконец, спустя несколько лет, тупая усталость. Никаких вздрагиваний при виде рыжего затылка в толпе, никакой ноющей боли от звука имени, никакого поиска взглядом привычной улыбки по утрам. Ночные кошмары – тихие, задушенные, никого, в общем-то, не беспокоящие.
Понимание – время ни хрена не лечит.
Может быть, оно слегка залатывает раны у тех, кто беззаветно влюблен. У тех, кто потерял кого-то близкого.
Тех, кто стоит на кладбище и смотрит, как в могилу зарывают его самого, точную копию, часть души, время не лечит.
Ее рвет. Кажется, собственными внутренностями, которые, хлюпая, вываливаются изо рта, перемазанные кровью и какой-то черной слизью, и с чавкающим звуком падают в унитаз, над которым она едва успевает склониться, почувствовав тошноту.
Из глаз катятся слезы, и все еще невозможно вздохнуть, словно что-то стоит поперек дыхательных путей и убивает. Постепенно. По секундам.
В следующее мгновение кислород разрывает легкие.
Глаза открыты, но толку – чуть. Все мутно, расплывчато, как в тумане.
И нет никаких разводов крови и черноты на белом фаянсе, ничего нет, будто не ее только что выворачивало наизнанку. Иллюзия… прерывистая галлюцинация… Словно кто-то очень жестокий провел заточенным карандашом по белоснежному листу бумаги, оставляя грифельный след, а потом и вовсе разрывая тонкую страницу крошащимся острием. Заливаясь гомерическим хохотом.
Она мотает головой, отгоняя наваждение.
Губы сухие-сухие. Внутренности на месте. Тогда почему кажется, будто внутри огромная черная дыра, в которую проваливается сердце, прощально оцарапавшись о ребра изнутри?
Все в порядке.
Кислород снова ядом просачивается в гортань, клокочет там, тяжело ворочается в груди.
Она выходит из ванной.
Зачем-то оборачивается перед дверью.
На нее глазами без привычно-зеленой радужки смотрит неподвижное отражение.
Гомерический хохот.
Джордж смотрит в зеркало на совершенно незнакомого ему человека. У человека осунувшийся вид, тени под глазами, зачесанные назад мокрые волосы. Человек опаздывает на групповую терапию. В психиатрическое отделение больницы Святого Мунго. У Джорджа совершенно другие планы. Век бы ему не видеть больницу Святого Мунго.
Однако решения принимает человек. Взрослый. Ответственный. Как там?.. Ах да: «учащийся жить дальше».
Человек чистит зубы, отхаркивая вместе с пастой кровь. Опять, задумавшись, слишком остервенело водит щеткой во рту, разрывая тонкие десны. Это ничего. Врачи обещают, что такое пройдет.
Уже который год. Обещают.
Ледяная вода ласково обволакивает лицо, холодом проникая под кожу.
Часы тикают.
Кофе сбегает.
Джордж аппарирует ко входу больницы Святого Мунго и, накинув на голову капюшон, лезет в карман за полупустой и изрядно помятой пачкой сигарет. Короткий щелчок по обтянутой целлофаном картонке и металлический скрежет обычной маггловской зажигалки. Легкие распирает никотиновый дым. Мысли благодарно сворачиваются, приглаживаются и успокаиваются, пропитываясь расслаблением от каждого вдоха.
От урны перед слишком вычурными для больницы воротами, в которую Джордж бросает окурок, до большой и слишком светлой для психиатрички комнаты групповой терапии – ровно двести сорок три шага. Исхожены, истоптаны, изучены, ногами изъедены, пересчитаны…
На первых пятидесяти ему всегда удается не думать.
А потом приходится толкнуть тяжелую дверь, и не думать уже не получается. Складывается ощущение, что стены начинают говорить. Голосами пациентов, безумных, пугающих, одержимых порой. Врачей, которые обещают скорейшее выздоровление и самое лучшее содержание. Голосами «преодолевших проблемы» наставников, которые убеждают, что впереди еще вся жизнь. Отрывистыми фразами грубых, сильных санитаров, выдающих какие-то сомнительные зелья. От этих голосов нельзя отмахнуться, остается только закрываться за своими мыслями.
Ближе к двухсотому шагу Джордж всегда обещает себе, что этот раз последний. Это, блять, должен быть последний раз, потому что столько лет уже прошло, что даже клиническому идиоту должно быть ясно, что лучше не станет. Его психиатру все еще не ясно.
Двести сорок… один… два… три…
Дверь привычно скрипит, приветствуя.
Стоящие кругом стулья, несколько новых лиц, несколько уже знакомых. Два раза в месяц групповая, два раза в месяц индивидуальная.
Ос-то-чер-те-ло.
– Доброе утро, Джордж.
Новый, незнакомый врач. Откуда-то знающий его имя?.. Папки с историями болезни сложены стопкой на одном из столов. Джордж чувствует себя так, словно его вынудили раздеться перед посторонним человеком.
Хмурится и коротко отрывисто кивает, и по лицу расползается больная, разъедающая губы полуулыбка. От нее губы немеют, потому что Джордж Уизли – если по-хорошему, по-честному, без всяких уловок и отмазок – полноценно не улыбался уже несколько лет, не улыбался широко и весело.
Никому, кроме Фреда.
Все посетители групповых сеансов смотрят одинаково – пристально, долго, и будто бы сквозь человеческое тело, куда-то вдаль, а, может быть, наоборот, в себя. Говорят по-разному. Кто-то выталкивает из себя слова быстро, торопливо, горячечно, желая все высказать, в надежде, что это поможет. Кто-то не говорит вовсе. А некоторые жадно, бережно цедят словами, немногочисленными и холодными, болезненными и резкими, и все понимают, что они не рассчитывают на то, что им станет легче.
Джордж говорит мало. Потому что сейчас его присутствие на групповых терапиях почти формальность.
На них он смотрит в пол между своими ногами и не пытается слушать других. Вместо этого прислушивается к будто бы живым звукам больницы: шуршанию желтых мантий, лязгу каталок, бурлению лечебных зелий в лабораториях, чьих-то отдаленных криков.
– Спасибо вам всем, – тепло улыбается доктор. – Увидимся в следующий раз.
Джордж вскидывает голову.
Торопливо встает вслед за врачом и увязывается за ним, чтобы остановить в коридоре, совсем не деликатно схватив за широкий рукав мантии.
– Где сегодня доктор Моррисон?
– У него возникли срочные дела.
– Я могу его увидеть?
Врач на мгновение закрывает глаза, словно задумываясь.
– Если мне не изменяет память, вы записаны к нему на прием ровно через неделю. Там он непременно появится. Если у вас что-то случилось, можем перенести этот сеанс… пятница подойдет?
– Со мной все в порядке, мне нужна лишь подпись доктора Моррисона на заключении – я устраиваюсь на новую работу и никак не могу ждать целую неделю. Вы не могли бы сказать мне, где он?
Медик мнется. Джордж не собирается отступать, смотрит выжидающе, задрав подбородок и прищурив глаза.
– У него новая пациентка, поступившая в закрытое отделение. Всего доброго.
Иначе говоря «сегодня доктора Моррисона никто не увидит». Потому что в закрытое отделение не пропускают обычных больных. Потому что добровольно туда никто не пойдет, даже просто позвать врача.
Доктор уходит.
Джордж вспоминает, где находится вход.
О закрытом отделении ходят легенды, что там держат едва ли не одержимых. Настоящих демонов.
Джорджу плевать. Все демоны, которых он боится, у него внутри.
Он смотрит на нее… И смотрит.
Ей кажется, что его взгляд физически осязаем, и он, этот пристальный взгляд, проламывает ей грудную клетку с оглушающим треском, обхватывает холодом позвоночник и вырывает его. От этого хочется свалиться к его ногам безвольным кулем. Куклой, из нутра которой удалили каркас.
Именно так смотрит Питер.
Каждый раз.
Даже не находясь с ним рядом, она чувствует этот взгляд. И – странно – он кажется ей самым правильным и самым реальным из того, что сейчас есть. Это единственное, что сохранилось из прошлой жизни. Питер и его взгляд, оставляющий на коже ощутимые мазки холода.
Он чувствует, что с ней что-то не так. Начинает чувствовать это задолго до того, как она сама признается в этом себе, а затем – ему. Почему именно ему? А-черт-его-знает.
Она в последнее время ничего наверняка не знает.
Наверно, потому что Питер всегда все знает и всегда может помочь. Захочет ли только?..
– Она сошла с ума, – тихо, спокойно, будто погоду на завтра.
Думают, она не услышит? Она ведь слышит все. Гораздо больше, чем хотелось бы.
– Пф, это ты сошел с ума, – от этого голоса внутри разливается теплота. Робкая, неуверенная, спокойная. – Она просто… особенная.
– Ее нужно обследовать. Она часто кричит. Ее мучают кошмары.
– Она банши, тупой волчара, – голос, от которого сердцу тепло, становится жестким. Теплота, вздрогнув, куда-то девается, оставив сквозняк. – Ей должно что-то видится, и она должна кричать.
Ее нет с ними в комнате. И в доме. Однако она без труда видит – представляет – как Питер сжимает край стола так, что дерево вот-вот треснет под его пальцами. Длинными и сильными пальцами с заостренными когтями. Глаза опасно вспыхивают синевой.
Лидии становится жутко, несмотря на разделяющие их стены.
Стайлз, стоя напротив, даже не вздрагивает. Нагло щурится и подается вперед. «Ну, давай, попробуй» – говорят за него его поза и взгляд.
Питер носом втягивает воздух.
– Я могу отличить сверхъестественные способности от сумасшествия, – раздельно, по слогам. Медленно и так легко вынося диагноз. Лидии кажется, что это не про нее. Про кого-то другого. – Щенок, – позволив голосу слегка завибрировать от гнева, добавляет Хейл.
Лидии кажется, что ее душу ломают. Перемалывают. Так, что можно ссыпать ее жалкие остатки в пакетик, а потом убиваться ею, как кокаином. До черноты в глазах.
Стайлз молчит, скрещивает руки на груди. Продолжает буравить Питера взглядом и безмолвно спорить. Неугомонный, неуемный, не уступающий. Теплота в груди Лидии снова робко поднимает голову, вспоминая все эти многочисленные «не».
– Ты не хочешь признать правду, потому что это ты довел ее до такого состояния.
Выстрел прямо в голову. Контрольный.
Напряженное, с трудом выдерживаемое всеми присутствующими спокойствие разрывается. Разлетается неровными клочьями по комнате.
– Ты охренел? – Стайз повышает голос.
Лидия морщится – слишком громко.
Раздаются звуки быстрых шагов и протяжного пения рассеченного рукой воздуха. Хлестко встречается с тонким жилистым запястьем сдерживающая ладонь. Шипение.
– Не надо.
Стайлз зло смотрит на остановившую его замах руку. Крепкие пальцы жгут – наверняка жгут, должны жечь – ему кожу чуть выше часов.
– Правильно, Дерек, убери своего сопляка. И послушай меня.
– Это не он сделал с ней, – короткий рык с губ.
Лидия смутно чувствует расходящуюся вокруг агрессию. Желание защитить от нападок, обвинений, чувства вины и стресса. Ей бездумно хочется встать перед Питером, отгородить от него парней, и сказать «это не он сделал со мной» вслед за Дереком.
Что «это»?..
– Ее нужно лечить!
Лидия обхватывает себя руками, стоя на крыше дома Хейлов.
Солнце, только что играющее в ее волосах, исчезает резко, словно кто-то щелкнул выключателем. Снизу, из комнат, доносится только тишина, а вот вокруг нее вибрирующей волной расползается крик. Тишина внутри дома нарушается бухающими по паркету шагами, торопливыми, сильными.
На крышу поднимается Питер, в одних джинсах, заспанный и даже немного… испуганный?..
– Зачем ты сказал им, что я сумасшедшая?! – сразу же обвиняющим тоном хрипит она сорванным от крика голосом.
По лицу текут слезы, сбегают влажными дорожками по щекам и шее, собираются солеными озерами над выпирающими ключицами. По горлу словно наждачной бумагой потерли несколько раз изнутри.
– Что, Лидия?..
Мужские руки накрывают ее плечи, и она утыкается лицом в горячую грудь, размазывая по терпко пахнущей коже слезы и косметику.
– Зачем ты им сказал? – хнычет, колотит маленькими кулачками по крепким рукам.
– Кому, черт побери?
Вот ведь строит из себя дурака. Лидия сердится. Сколько можно делать вид, что она ничего не слышит – она не глухая дурочка, ничего вокруг не замечающая. Она все слышит. Она понимает, что ее хотят лечить.
…вылечи меня, Питер, спаси меня… – болезненная вспышка.
– Стайлзу и Дереку. Только что, я же слышала!
Питер смотрит на нее широко распахнутыми глазами.
Ночь черна, как смоль, только едва ощутимо подсвечена тонким месяцем луны.
Дерека нет сегодня дома.
Лидия в тонком пеньюаре, дрожащая, замершая, невесть откуда взявшаяся на крыше, на гребаной крыше дома Хейлов, стоящая на краю.
Питер видит Лидию впервые после смерти Эллисон. После смерти Ногицунэ. И Стайлза, ушедшего вместе с ним.
Дерека нет сегодня дома. Мальчишки Стилински уже давно нет нигде.
Лидия слышала, как Питер только что сказал им, что она сумасшедшая.
Пальцем выбив из пачки сигарету, Джордж с наслаждением пропускает внутрь себя ядовитый дымок, а затем плавно выдыхает его через ноздри. По телу прокатывается приятная теплая волна, и в кончиках пальцев едва ощутимо покалывает. Так чувствуется спокойствие.
Потушив ногой окурок, Джордж несколько раз с хрустом разминает пальцы, а потом привычно выгибает украденную из кабинета групповой терапии скрепку в самую простецкую отмычку – вряд ли на двери черного хода стоит сложный замок. Магия в этой части больницы не работает, никто особенно не хочет находиться рядом с неконтролирующими себя и свои силы, сумасшедшими, часто буйными магами. Кроме Джорджа, который ковыряется в замочной скважине самодельной отмычкой.
Сколько раз они с братом пробирались во все возможные уголки Хогварста? Пробирались туда, куда нельзя, запрещено, не положено, чуть не попадались, а потом смеялись, вспоминая это, под пологом одной кровати в спальне Гриффиндорской Башни… Не счесть.
Впервые со дня его смерти Джордж делает нечто, отдаленно похожее. Идею пробраться в закрытое отделение психиатрического корпуса больницы Святого Мунго Фред бы воспринял с энтузиазмом.
– Что за бредовая идея? Давай сделаем это!
Так он всегда говорил. И сейчас говорит – в мыслях Джорджа, когда тот копошится отмычкой в двери черного входа изолированного отделения, который располагается за мусорными баками с задней стороны здания.
Джордж знает это место, потому что прежде ему приходилось буквально сбегать с многочасовых выматывающих сеансов, чтобы покурить – а на территории больницы сделать это можно было только здесь, частенько составляя компанию парочке санитаров, которые после, пожелав выздоровления и цинично хмыкнув, скрывались за тяжелой, выкрашенной в синий цвет дверью.
Сейчас эта самая дверь неохотно поддается и без скрипа открывается, впуская Джорджа в прохладное помещение.
Тишина.
Звуки шагов разбивают ее, и она хрустит под подошвами кроссовок, как осколки стекла.
Тишина.
Слишком оглушительная для места, где держат буйных больных.
Свет множества тянущихся вдоль стен ламп – тусклый, не бьющий по глазам – мягко и плавно очерчивает длинный коридор и постепенно сходит на нет к концу длинного грязно-белого тоннеля. По обе стороны расположены редкие двери, на расстоянии метров двух-трех друг от друга. Их легко бы и не заметить, эти двери, ведь нет ни единой щели между дверью и стеной, только ручки выделяются блеклым блеском металла и… решетки. На высоте человеческого роста в каждой двери зияет, словно пропасть, небольшая решетка, и оттуда будто льется чернота, духота, страх, одиночество.
Джорджу дурно. От мысли о том, каково там, внутри – сидеть в кромешном мраке и видеть только сероватый свет, квадратами проливающийся через эту решетку. Ни окон, ни дверей, и ручки наверняка только с одной стороны.
И тишина.
Шаги ускоряются, и он уже почти бежит по коридору, напрочь забыв про доктора Моррисона, необходимую работу и свою уверенность в том, что демоны у него внутри. Никаких нет у него демонов, он нормален. Любому нормальному человеку будет до чертиков страшно здесь. В месте, где живьем похоронены люди.
Впервые в жизни Джордж думает, что есть что-то хуже смерти.
Ему чудится короткое движение откуда-то справа.
Он невольно замедляет шаг и поворачивает голову.
И тут же чувствует, как его прибивает к полу страхом. Страх огромным тяжелым молотом опускается сверху и расплющивает Джорджа, заставляя стоять на месте и, оцепенев, смотреть.
Прутья решетки одной из палат обхвачены изнутри тонкими, бело-серыми, как стены вокруг. Пальцы в крови и следах, будто искусаны. Пальцы елозят по металлу решетки, пропихиваются в клетку между прутьями, пытаются вырваться на свободу, тянутся к нему, Джорджу.
Слабый свет позволяет разглядеть в полумраке комнаты лицо. Черты молодого, бледного, осунувшегося лица искажены криком. Бессмысленным, протяженным криком, от которого, должно быть, у девушки саднит горло и сбивается дыхание. А она все кричит.
До Джорджа не долетает ни звука.
Она кричит.
Рыжие волосы неаккуратными сосульками обрамляют лицо.
Искусанные пальцы тянутся через прутья.
Она кричит.
Вокруг тишина.
– Мистер Уизли, какого черта вы здесь делаете?
Нет никакой возможности оторвать взгляд от ужасного зрелища. От него кишки сворачиваются в холодный склизкий узел где-то внизу живота, и кажется, что если он простоит так еще несколько минут, то можно будет заселяться в соседнюю от молча кричащей девицы палату.
Не смотреть не получается.
– Джордж!
Лицо доктора Моррисона. Прямо перед глазами. Загораживает черную дыру в стене, из которой рвется наружу сумасшествие.
Руки доктора Моррисона. Обхватившие его за плечи и трясущие. Между ними расползается ощущение безумства, осязаемо зависает и ждет подходящего момента, чтобы проникнуть Джорджу в голову.
Голос доктора Моррисона. Прорывающийся через тишину, как через толщу воды. Жесткий, совсем не такой тихий и спокойный, как на сеансах. Отрезвляет.
– Простите. Я… мне очень нужно, чтобы вы подписали бумаги.
Вдох.
Первый за все это время?..
Выдох.
У Эллисон руки теплые, а в груди гулко и живо бьется сердце, продолжает биться еще почти целую минуту, перегоняя остатки неподвижной, чернеющей крови по венам. Это называется автоматией – когда тело погибает, сердце работает еще несколько мгновений за счет собственных специфических структур. Лидия когда-то об этом читала.
Эллисон слизывает с губ кровь.
Лидии нет там.
У Стайлза руки ледяные, будто он держал их в снегу целую вечность. Сердце в его груди почти не слышно, оно слабое и лишь едва трепыхается, словно небольшая птица, зажатая в кулак. Жизнь уходит из него постепенно, с каждым проворачивающим движением клинка, вокруг которого он собственноручно перемалывает в однообразную массу внутренности. Лидия читала – это называется «харакири».
Стайз слизывает с губ кровь.
Лучше бы Лидии там не было.
А затем печаль и скорбь поселяются по соседству. Каждый день ездят вместе с ней в школу, ходят в магазин и, кажется, даже принимают душ.
Лидия отчаянно пытается проснуться.
Жуткий кошмар слишком затягивается.
Лидия держит в руках сердце. Оно еще живо и тяжело ворочается в ладонях, пульсируя и проливая на пальцы алую-алую кровь, оно мягко толкается вперед, словно дышит. Сердце Эллисон… или Стайлза?.. Когда оно останавливается, Лидия кричит от ужаса и съедающего чувства вины. Не почувствовала кончину. Не уследила. Не сберегла.
Сердце падает из трясущихся рук на кафельный пол и с хлюпающим звуком разваливается на несколько частей, не выдержав удара.
Лидия опускается на колени и пытается собрать его. Зачем?..
Кровь алая.
На руках.
Алая-алая. Аж глаза режет. И пальцам отчего-то больно собирать сердце.
Стайлза или Эллисон?
Не сберегла.
– Лидия, – на плечо опускается широкая мягкая ладонь.
Все тело пронзает дрожью от странного тепла, пробирающего до самых ребер.
– Прекрати.
Она всхлипывает и отпускает то, что успела подобрать, из ладоней. Почему-то ошметки сердца падают на пол не со шлепком плоти, а со звоном стекла.
Она сидит у разбитой чашки. Кухню переполняет запах кофе, а по рукам, из ранок от осколков, стекает кровь. Питер сжимает ее плечо до боли, до кровоподтека, до онемения.
– Вставай.
Голос властный, спокойный.
Лидия цепенеет на мгновение, а потом ее накрывает оглушающим пониманием. Точно короткий удар куда-то в живот, и дыхание перехватывает, крик набухает в ее горле так мощно, что, кажется, будто вот-вот выдавит наружу гортанный хрящ.
Она вскакивает с колен. Страх плещется в ней, переливаясь через края.
– Питер!
Она тараторит торопливо, быстро, проглатывая слова.
– Мы должны как можно быстрее сообщить остальным. Я почувствовала, что Стайлз и Эллисон умрут, ее убьют Они, а он убьет себя кинжалом, чтобы погиб Ногицунэ!
В глазах стоят слезы, а Питер равнодушно и спокойно смотрит на нее, не шевелясь с места. В его взгляде плещется только… сочувствие? Даже жалость.
Нужно срочно найти Дерека, он точно сразу же сорвется на помощь. От старшего Хейла, как всегда, никакой пользы.
– Питер, они умрут!
Она судорожно рыщет глазами по кухне в поисках телефона. Господи, почему она вообще в доме Хейлов, на кухне, которая отвратительно пахнет кофе, и одета только в мужскую неровно застегнутую рубашку?..
Движения у нее нервные, судорожные. Все тело подрагивает то ли от перенапряжения, то ли от холода, что сквозняком гуляет под кожей.
Питер вдруг оказывается слишком близко. Блокирует ее с обеих сторон руками и прижимает телом к столу, нависая над ней нерушимым спокойствием.
– Очнись.
– Отвали от меня. У меня нет времени.
Губы разом пересыхают. От непозволительной близости.
В памяти вспыхивает то, как он контролировал ее, то, как он едва не убил ее, то, как он вынудил ее помочь ему… Все разом вспыхивает в памяти и тут же гаснет.
Она проводит по нижней губе языком. Его взгляд чуть заметно темнеет.
– Очнись, Лидия. Они уже умерли.
О чем он?.. Что за чушь он несет?.. Она в полном порядке, и им обоим нужно, черт возьми, что-то делать. И они еще могут что-то сделать, ведь никто еще не погиб, ведь она банши, она знает…
От его запаха вдоль позвоночника проходит дрожь. Кровь, пот, почему-то ее собственные духи; уже вызывающий тошноту аромат кофе, дорогой парфюм. Лидия прикрывает глаза, чувствуя, как сердце заходится страхом.
Чересчур близко.
– Очнись!
– Я в порядке… – упрямо шепчут губы.
Он вдруг хватает ее за плечи и начинает трясти. Глаза отсвечивают синим огнем, гипнотизируют, в них так приятно и чертовски правильно забываться. Она раскачивается в его руках, как безвольная кукла, пока он продолжает сотрясать ее за плечи.
Как будто со стороны видит, как он замахивается ладонью и останавливается в сантиметре от ее лица. Вместо удара мягко, даже ласково, гладит по щеке.
– Приди в себя, Лидия! Они умерли, все уже случилось.
Он рычит ей в лицо.
Она удивленно распахивает глаза, не веря не единому слову.
Губы у него грубые, жестко накрывающие поцелуем ее.
Они сбивчиво дышат друг в друга.
Питер подхватывает ее под ягодицы и усаживает перед собой на стол, продолжая языком и губами ласкать ее рот и оглаживать широкими ладонями холодные бедра. Она извивается под его прикосновениями, согревается от них, от горячего тела, от близости, от настойчивой силы. Обвивает стройными ногами его талию, а руками – шею, запуская тонкие пальчики в жесткие черные волосы. Коротко тянет за них, заставляя его с едва слышным рычанием откинуть на несколько секунд голову и подставить шею под ее влажные, быстрые поцелуи.
Она плавится.
Растекается по кухонному столу от невыносимого удовольствия. С радостью игнорирует вопящий на краю сознания что-то об опасности, грозящей друзьям, голос.
Лидия сбивчиво шепчет что-то. Подставляется под поцелуи, оставляющие на ее бледной коже алеющие следы.
Алые-алые.
Она вцепляется в его плечи с такой силой, что на загорелой коже остаются ссадины и кровоподтеки. С губ срывается едва слышное шипение, и в отместку он пробирается руками под свою же футболку на ее теле и накрывает грудь ладонью, находит пальцами сосок и сжимает так, что она впервые громко и протяжно выстанывает его имя.
– Приди в себя.
Совершенно лишнее.
– Питер, спаси меня…
Он распахивает глаза.
Смотрит ей прямо в душу. В то, что от нее осталось.
Тепло стремительно покидает ее тело, стоит ему сделать шаг назад.
Она поднимает на него взгляд. «Спаси меня, Питер!». По щекам текут слезы.
Он укладывает ее в свою постель, хранящую его тепло и запах.
– Алло, Билл?.. Это Питер Хейл… Да. Пожалуй, я готов воспользоваться тем, что ты мне задолжал. Помнишь, ты говорил, у вас есть больница?.. Да. Одна банши сошла с ума... Совсем... Я не знаю, и... ей очень нужно помочь, ладно?
Этого разговора Лидия уже не слышит.
А во сне она снова кричит.
– Какого хрена ты там делал?
Джордж впервые видит доктора Моррисона таким. Злым, раздраженным, выведенным из себя, не контролирующим срывающийся от гнева голос, машущим руками перед лицом.
Впервые Джордж видит в докторе Моррисоне хоть что-то, помимо внимательной собранности, невероятного спокойствия и вежливой полуулыбки.
– Как ты, твою мать, туда попал?
Он взбешен до крайности.
Джордж напуган до чертиков.
И даже не удивляется, когда доктор Моррисон ставит перед ним пепельницу и закуривает, подпаляя сигарету от кончика волшебной палочки.
Дым наполняет комнату. Повисает над потолком и оседает не только в глотке, но и разом на всей коже.
Джордж сидит, запрокинув голову на спинку кресла, смотрит на тонущую в никотиновом облаке люстру и думает о том, что этот внеплановый сеанс – самый лучший.
– Вам следует получше запирать черный ход, – пожимает он плечами.
Обаятельная, обезоруживающая улыбка и наглая откровенность. Привычка школьных лет и сотни раз наедине с Филчем, деканами всех факультетов, директорами. Он отлично умеет оправдываться и гасить гнев людей.
– И, пожалуй, запретить санитарам курить перед ним.
Задумчиво прикусывает нижнюю губу.
Доктор Моррисон с глухим стоном садится за стол и слишком резким движением опускает перед собой оранжевого цвета папку с красной печатью «закрытое отделение» в углу обложки.
Джордж заинтересованно вытягивает шею и видит от руки написанное в самом верху: «Лидия Мартин».
Врач прослеживает его взгляд и тут же перекладывает историю болезни в верхний ящик. Проворачивает ключ. «Проглоти его еще», – думает Джордж, когда доктор прячет зазубренный кусочек металла во внутренний карман пиджака. Пиджака?.. Не мантии.
– Где вы были?
Моррисон удивленно вскидывает брови, внутренне восхищаясь наглостью пациента. Мало тому было вломиться в закрытое отделение и поставить под удар конфиденциальность всей больницы, так еще и вопросы задать не стесняется. Впрочем, отчего-то доктор уверен, что рутинное лечение отчаянно сопротивляющегося Уизли теперь сдвинется с мертвой точки.
– Принимал пациента, Джордж, хотя это совершенно не ваше дело.
– А почему не в мантии? Она что, маггл?
– Джордж, – голос строгий и взгляд выразительный. Очки на переносице. И никаких ответов.
Джордж судорожно роется в памяти, по кусочкам собирая последние дни, и все никак не может отделаться от смутного ощущения, что где-то слышал это имя недавно. Буквально пару дней назад. Лидия Мартин. Лидия… Кто произносил это имя?.. Где он его слышал?.. Лидия.
Помимо этих, есть еще множество вопросов. Джордж задумчиво перекручивает в пальцах сигарету, выбирая, какой задать первым, пока врач копается в столе в поисках своей печати и пера, чтобы оформить принесенные пациентом бумаги. Хрен с ней, с работой.
Впервые за долгое время Джорджу что-то действительно интересно.
Вопросы прыгают на языке, нуждающиеся в ответах, готовые вот-вот сорваться разом, один за другим, ошеломить врача, оттолкнуть. Джордж всегда был любознательным. Вместе с братом. Пусть это и не мешало им учиться из рук вон.
Узнать о закрытом отделении Святого Мунго так, для общего развития? Почему бы и нет.
Врач опережает каждый из его вопросов своим.
– Ты ведь не слышал криков в закрытом отделении, да, Джордж?
Короткий кивок. Секундное возвращение назад.
Оцепенение возвращается, и приходится заставить себя сделать вдох. При-ну-ди-тель-ный.
– И не услышишь. Потому что благодаря магии стены в закрытом отделении не пропускают криков, они их поглощают – вместе с отчаянием, болью и ужасом больных, которые там находятся. Остается только тишина, пустая и вязкая. Это ты ощущал, верно?
У Джорджа мелко подрагивают пальцы. Он вспоминает свой самый первый сеанс и «вам когда-нибудь швыряли под ноги ваши органы?». Да, пожалуй, только что швырнули. Все внутри до сих пор скованно холодным, цепким ужасом.
– Да. Это я ощущал.
Моррисон улыбается как-то очень болезненно, с пониманием. Легким движением палочки беззвучно переносит из шкафа на стол пару чашек и чайничек. Только что он был холодным, а теперь, повинуясь движению пальцев врача, разливает по чашкам ароматный обжигающий напиток. И не единого слова.
– Вы сильный маг, доктор.
– Пожалуй, так.
– Вы из семьи магглов, не так ли?
– У вас какие-то проблемы с грязной кровью, мистер Уизли?
Джордж мотает головой и обхватывает пузатые бока чашки продрогшими насквозь пальцами.
Глоток как будто сдирает со рта кожу, и это до странности приятно, потому что по телу тут же начинает разливаться тепло. Словно кто-то заботливо закрывает дверь шкафа, в котором живут монстры, подтыкает одеяло и целует в лоб, приговаривая, что ночь будет спокойной, и нет никаких чудищ под кроватью.
Чудища есть. Они заперты в беззвучном отделении в Мунго.
– Почему она кричит?
Один из еще целого вороха вопросов. Только один. Самый, пожалуй, важный.
Почему она кричит?..
Почему она кричит?..
– Джордж, я отвечу только потому, что опасаюсь развития у вас навязчивой идеи. Надеюсь, вы понимаете, что я нарушаю врачебную тайну, говоря вам это?
Снова кивок.
– Она банши.
Джордж закрывает глаза и чувствует, как горячий чай плавит его изнутри.
Короткий щелчок зажигалки. Осуждающий и проигнорированный взгляд врача.
Кто-то умрет. Банши никогда не кричит просто так.
Пожалуйста, пусть это будет его смерть. Пусть он погибнет, не суть важно, как. Пусть он погибнет, пусть пройдет чертово Чистилище, или что там бывает после смерти. Пусть он попадет – ему плевать, рай или ад – туда, где брат.
Сколько раз Джордж на протяжении всех этих лет задумывается об этом? Тысячи. И ни разу не собирается в самом деле это сделать. Потому что он знает: где-нибудь, на той стороне, где-то в долбанном потустороннем мире, его ждет Фред, который, жадно притянув его к себе на мгновение, ощутив тепло родного тела, тут же оттолкнет и выдохнет сквозь зубы «слабак». И будет прав. Меньше всего на свете Джордж хочет разочаровать брата. Поэтому живет. Отгоняет мысли о смерти и стискивает зубы.
Фред во снах улыбается.
Фред во снах теплый, живой и шутит.
Слабак.
– Кто-то умирает?
– Мы в больнице, Джордж.
Врач смотрит как-то слишком понимающе. Будто бы насквозь видит метания, лихорадочный страх, будто бы тоже видит Фреда, который улыбается, а потом говорит «слабак».
– Здесь кто угодно может быть на пороге смерти. А эта девушка… она сумасшедшая. Ее друзья умерли, и ее разум отказывается в это верить. Ее мучают сцены их смерти, но она не понимает, что это – воспоминания, она думает, что это… видения, предзнаменования смерти.
– Почему она здесь?
– Ее родным было бы трудно объяснить всю ситуацию обычному психотерапевту. А без полной информации лечение невозможно.
– И что вы намерены делать?
– А почему вы так этим заинтересованы?
Молчание. Тягучее, медленное.
Почему?
Фред улыбается. Не во сне, вживую.
«Тттшшш, братишка, если мы умрем, то только вместе» – горячий дыхание куда-то в шею, пьяный смех, придурь в голове и бесконечное небо над смотровой площадкой Астрономической Башни. Пустая бутылка огневиски на полу. И никакой смерти нет в ближайших планах.
Похороны через полтора года.
Фред больше не улыбается.
Почему он так этим интересуется?
Онемевшие пальцы обжигает дотлевшая до фильтра сигарета.
– В медицине магглов это называется посттравматическим стрессовым расстройством. В случае моей пациентки это усугублено сверхъестественным аспектом – ее гораздо сложнее убедить в смерти близких, ведь она уверена, что может ее предотвратить. Сперва медикаментозно мы стабилизируем ее, чтобы она прекратила кричать, наносить себе вред, начала спать и есть. Затем попытаемся… открыть ей глаза на реальную ситуацию.
Молчание.
– Расстройство характеризуется тем, что при появлении напоминающих факторов, человек заново погружается в стрессовую ситуацию, заново переживает ее, что сказывается на психике. Это называется «спусковой крючок».
Молчание.
– Почему вы так интересуетесь ею, Джордж?..
– Потому что она мой «спусковой крючок». Она напомнила мне о смерти, которую я почти забыл.
Холодная вода мягко обволакивает кожу, обдает дрожью, и Лидии кажется, что она стекает с нее буро-черной из-за крови и грязи, которую смывает. Лидия никак не может отмыться от ощущения смерти на своем теле, никак не может отделаться от холода – все это осталось в ней после всего, что случилось в темном пустом коридоре, в котором Стайлз…
Она мотает головой, запрещает себе думать об этом.
Очередная полная кошмаров ночь позади.
Привести себя в порядок. Узнать, почему она ночевала у Питера. Позвонить Эллисон, попросить немедленно забрать отсюда.
Лидия смотрит на свои руки, трогает плечи, смывая остатки пены, оглядывает стройные ноги, и все силится понять, откуда во всем теле ощущение боли. Словно ее исхлестали плетьми, и кожа теперь должна опухнуть и гореть. Кожа бледная, с мурашками от прохладной воды, с темными родинками в некоторых местах и со шрамом десятилетней давности на предплечье. Отчего-то все равно больно.
Дрожащими пальцами открывает посильнее кран. Неужели Хейлы все еще не наладили нормальный водопровод?
Подставляет лицо едва теплым струям, приоткрывает рот, собирая брызжущие капли.
Боль усиливается.
– Лидия, что ты делаешь?!
Питер вламывается в ванную, практически снося с петель дверь, и перекрывает воду.
– Что ты, твою мать, делаешь?
Голос у него до странности испуганный. И сам он испуган, шарит по ее телу взглядом, словно ища раны, нервничает, едва не ломает металлический поручень в душевой.
Лидия прикрывает обнаженное тело руками и не знает, что сказать на такую наглость.
– Ты разрешил воспользоваться ванной.
Он неожиданно перешагивает через бортик, залезая к ней в ванну, и начинает собирать с ее лица волосы.
– Господи, что ты наделала…
Что она наделала?.. От его прикосновений больно.
И все еще очень-очень холодно, словно пронизывающий холод из кошмарного сна остался в ее душе навечно, а еще отовсюду слышатся голоса.
Не сберегла… Стайлза или Эллисон?.. Спаси меня…
Когда Питер берет ее на руки, она даже не сопротивляется, отвлекшись на голоса, а затем шипит, потому что его прикосновения будто кожу сдирают. Он выносит ее из ванной и аккуратно ставит на ноги посреди ванной.
Она смотрит в зеркало.
Ее кожа алая, местами в волдырях.
– Ты стояла почти под кипятком
Лидия смотрит на свое лицо, на пузырьки на губах. На мгновение в зеркале мерещится голый череп, обтянутый только лохмотьями почти полностью сошедших мышц.
– Мне холодно, Питер…
Он обматывает ее в прохладное мокрое полотенце и помогает выйти из ванной. Из зеркала за ее спиной – Лидия не оборачивается, но знает – им вслед смотрит череп с большими глазницами, в которых глаза без радужки, полностью налитые чернотой.
Лидия тщетно пытается зацепиться за реальность, проследить, понять… Ей снился кошмар. Он точно закончился, ведь она проснулась и пошла в ванную. Почему же так холодно?.. Вода казалась ледяной.
Голоса вокруг то усиливаются, то почти затихают.
Спаси меня…
Люди появляются в тот момент, когда клокочущий в ее горле крик срывается с губ надсадным хрипом, а Питер неуверенно прикасается ладонями к ее лицу, пытаясь успокоить.
Она захлебывается воздухом и испуганно отшатывается от словно соткавшихся из воздуха фигур.
– Это Они?! – она цепляется за руку Питера с такой силой, что он болезненно шипит, и на коже остаются следы от острых ногтей.
Люди – или Они? – смотрят напряженно.
– Нет, Лидия, это наши друзья. Пожалуйста, иди оденься.
Еще один взгляд на гостей – не похожи на Они. Обычные люди, один рыжий, с собранными в хвост волосами и тремя уродливыми шрамами поперек лица, одет в странную хламиду, другой в дорогом костюме, очках, смотрит цепко и внимательно. С интересом.
Лидию передергивает.
– Иди.
В голосе Питера металл.
Лидии больно одеваться, но она одевается. Кожа пылает от каждого прикосновения ткани, а Лидия закусывает губу, чтобы не выдать ощущения ни единым звуком, глотает текущие по лицу слезы и слушает-слушает-слушает…
– Здравствуй, Питер.
– Билл.
Наверно, они пожимают друг другу руки.
– Это доктор Моррисон, – представляет своего спутника Билл. Билл – наверняка рыжий. Лидии чудится теплая краснота в его голосе, и представляются веснушки, которые наверняка скрываются под шрамами. Ей нравится человек. От него веет силой, но не такой, как от Питера, а… доброй.
Доктор? Для кого? Стайлза? Все еще не пришел в себя после визита в его разум Ногицунэ?.. Почему ей никто не говорит об этом?
– Питер Хейл.
– Очень приятно.
Голос у врача с цепким взглядом тихий, спокойный, убаюкивающий.
– Соболезную твоей потере, Билл.
Лицо со шрамами, должно быть, еще больше искажает короткая усмешка.
– Почти три года прошло. Удобно совпало твое желание посочувствовать с моментом, когда тебе от меня что-то нужно.
Наверно, Питер ухмыляется или пожимает плечами. Или разводит руки в издевательски-извиняющимся жесте. Такой он, этот Питер.
Раздаются шаги, а потом скрип открывающейся дверцы настенного шкафчика. Скрежет пробки о горлышко бутылки и плеск наливаемого в бокал алкоголя. Наверняка виски, другого в доме Хейлов не держат.
– Думаю, ты не против мне помочь.
– Если только доктор Моррисон согласится.
– О, это очень интересный случай, – в голосе врача воодушевление.
Лидия злится. Ее друг едва не погиб, рисковал собой ради спасения других, боролся с темным духом, а теперь не может оправиться – и все это интересный случай? Как можно!
Лидии кажется это бессмысленным. Ведь Стайлз… справится сам. Он всегда со всем справляется.
– То, что я уже знаю, меня впечатляет.
– Меня как-то не очень.
Горечь? Лидии смутно кажется эта горечь знакомой. Эта горечь была вчера, в поцелуях, словах… Или это был сон?..
– Давно это?
– Примерно полгода. После смерти близких – сперва ночные кошмары, истощение, потом дневные галлюцинации, связанные со всеми событиями или нет. Приступы паники, крики, ощущение тошноты и головных болей без таковых. Я видел ее как-то раз, обнимающую унитаз просто так, ее не рвало – ей казалось. Вчера обнаружил почти голую на своей крыше. Обвиняла меня в том, что я сказал ее умершему другу, что она сумасшедшая.
– Вы близки с ней? – быстрый вопрос и – наверняка – внимательный взгляд.
Молчание. Долгое. Гулко бьются сердца.
– Нет.
– Тогда почему этим занимаетесь?
– Больше, видимо, некому.
Лидия сползает по стене комнаты на пол, и уже не сдерживает рыданий в голос. Краткая вспышка осознания – они думают, что она сумасшедшая. Не Стайлз, а она.
Она прикусывает свои пальцы, пытаясь проснуться, пытаясь болью вытащить себя из кошмарного сна, она вдруг перестает видеть все вокруг, только темный, длинный коридор, свет в конце, а на фоне белой вспышки – мужскую фигуру, стремительно приближающуюся.
Ногицунэ? Нет, пожалуйста… Только не снова.
Чьи-то руки поднимают ее с пола.
– Ожоги мы вылечим быстро, остальное – не обещаю.
«Не отдавай меня им, Питер, пожалуйста, не отдавай меня им!».
Кто-то прижимает ее к себе очень-очень близко, практически всем телом. Под руками ощущается гладкая ткань пиджака, а воздух переполняется запахом сигарет, лекарств и ненавязчивого древесного парфюма.
– Что вы собираетесь делать?
– Аппарировать, – голос такой, будто говорящий улыбается.
Лидии кажется, что весь мир вокруг сжимается в одну черную точку, огромную, как поставленную фломастером прямо в центре белого листа.
Последнее, что она слышит:
– Надеюсь, вы поможете ей.
Джордж опаздывает.
Кажется, первый раз за прошедшие годы он опаздывает на долбанную терапию. Он бежит положенные двести сорок три шага, и из-за бега и сбитого дыхания ему удается не слышать голосов пациентов Мунго.
Наспех накинутая рубашка прилипает к влажной от пота спине, и даже нельзя прикоснуться к себе осушающим заклятьем, потому что в больнице нет магии ни для кого, кроме целителей.
Понимая, что выглядит не лучшим образом, он стучит в дверь и, не дожидаясь ответа, открывает ее. Все уже сидят кругом, и кто-то из постоянных рассказывает, как он преодолевает очередной этап своей депрессии. Этапов у него как-то до хера, на самом деле, Джордж даже завидует. У него столько нет. У него один – «мой брат мертв». Это где-то за гранью стандартной депрессии. Это не преодолеть.
– Извините за опоздание, – выдает он, все еще немного жадно глотая ртом воздух.
– Здравствуй, Джордж. Ничего страшного, – Моррисон смотрит на него поверх очков и дежурно улыбается. – Садись, пожалуйста.
Он кивает в качестве приветствия и плюхается на стул. Привычно упирается взглядом в пол перед своими ногами и старается по максимуму пропускать мимо ушей чужие излияния душ.
Вспоминает свое пробуждение. Резкое, внезапное, будто кто-то с силой толкнул. В окно нещадно светило солнце, и стрелки часов показывали – опоздал.
Проспал. Впервые за долгие годы спал крепко, беспробудно, без выворачивающих кошмаров, ни разу не проснувшись за ночь, не услышав будильника. Впору порадоваться и похвалиться перед врачом, который частенько говорил, что полноценный сон – первый признак психического здоровья, но нет.
Джордж чувствует себя вымотанным, уставшим, хотя лег вчера рано, до полуночи. Чувствует себя так, будто все время, пока он спал, его методично избивали армейскими ботинками. Тело ломит, в мыслях неповоротливая тяжесть.
Руки слегка подрагивают.
Совершенно некстати в голову снова проникают воспоминания о закрытом отделении.
Джордж с силой проводит рукой по лицу, пытаясь стереть воспоминания, мысли, чувства. Все разом, как грим.
Нудный голос затыкается, и Моррисон задает кому-то очередной вопрос.
На некоторое время повисает тишина. Так и висит в воздухе, словно прицепленная к воображаемому гвоздю, и давит, нещадно давит. Джорджу хочется сделать что-нибудь, чтобы ее разрушить. Тишина слишком цепко связана в подсознании с жуткой картиной беззвучно кричащей девушки.
– Лидия? Вы слышали, что я сказал? – доктор Моррисон сбивает тишину с гвоздя палкой, и она падает на паркетный пол.
Лидия?
Джордж вскидывается и смотрит в ту же сторону, что и целитель.
Девушка, что кричала в абсолютной тишине, что тянулась к нему поврежденными руками через прутья решетки, что навсегда отпечаталась в памяти и крепко ассоциируется с ужасом в подсознании, сидит перед всеми и смотрит на свои пальцы, теребящие край больничной пижамы.
Из всех присутствующих она явно все еще находится в самом тяжелом состоянии.
– Лидия, мы же с вами договаривались, – в тоне Моррисона мягкий укор.
Девушка поднимает голову. Лицо у нее очень красивое, с правильными, изящными чертами, огромными зелеными глазами и пухлыми, ярко очерченными губами. Лицо осунувшееся, со впалыми щеками, острыми скулами, бледное, а в глазах – пустота. Бессмыслие.
Джордж помнит этот взгляд.
Он видел его в зеркале первые месяцы после смерти брата.
Джорджа захлестывает сочувствие. Горячими волнами, рвущимися ощущениями, острыми ощущениями. Весь он, от рыжих волос до кончиков пальцев – сочувствие, понимание. Потому что знает, что такое растущая изнутри пустота, большая, черная и всепоглощающая.
– Вы не могли бы повторить ваш вопрос? – голос у нее сломанный.
Будто она включает старый диктофон, на пленку которого записаны все нужные фразы, когда начинает говорить.
– Что вы чувствуете сегодня?
Джордж ненавидит этот вопрос. Все еще, сейчас уже намного слабее, чем раньше, однако каждый раз этот вопрос ставит в тупик. Заставляет несколько секунд бессмысленно пялиться и окунаться туда, куда совсем не хочется, – в свои мысли, ощущения, в которых нет ничего приятного, только глухая тоска.
Лидия вздрагивает, видимо, сосредоточившись на своих чувствах и тоже не найдя в них ничего хорошего.
– Боль.
Снова повисает молчание. На Лидию теперь смотрят уже вообще все, и Джордж уверен, что ей неловко и страшно от давящего внимания.
– Расскажите подробнее, Лидия, – просит Моррисон.
Та снова опускает голову, и до Джорджа доносится едва слышный всхлип.
Хочется врезать Моррисону по лицу, чтобы сука подробнее ощутила, что значит «боль».
Джордж, в целом, понимает, что Моррисон великолепный целитель, он даже осознает, что Моррисон сделал его нынешнюю жизнь более-менее сносной, и что Лидии он тоже помог, очень помог, – она не кричит, не терзает себя, она пытается смириться с произошедшим, и она не сидит в темной, беззвучной тюрьме в закрытом отделении. Значит, лечение помогает. Однако врезать все равно хочется.
Потому что девушку безумно жаль. Потому что такие, как она, молодые и красивые, не заслуживают доводящих до потери самих себя трагедий.
– Хорошо, мы вернемся к этому на индивидуальном сеансе, Лидия, – сдается Моррисон, так и не услышав ничего больше.
Быстрый кивок. Пальцы снова теребят ткань.
– Джордж, ваша очередь. Что вы сегодня чувствуете?
Он прикрывает глаза, сосредотачиваясь на сотни самых разных ощущений.
– Ничего.
– Кажется, это уже пройденный этап, Джордж, –целитель улыбается, даже с некоторой теплотой.
И в правду ведь, пройденный.
– Сожаление.
Лидия поднимает голову и смотрит на него. В ее взгляде появляется что-то, похожее на обиду, на злость, и быстро заполняет всю былую пустоту.
– Почему?
– Потому что я знаю, как это – терять самых близких людей, и хотеть умереть вслед за ними, и не суметь найти ничего стоящего в жизни, что могло бы не заменить их, но хотя бы занять эту выбитую брешь. И я сочувствую всем, кто сейчас переживает подобное. Я хочу сказать: это пройдет.
Взгляд Лидии обжигает. Она закусывает губу, и ее глаза блестят, будто она вот-вот заплачет.
Джордж не понимает.
Моррисон смотрит на него несколько секунд, не мигая, а потом переводит взгляд на Мартин. Кто-то, сидящий рядом от Джорджа, бормочет ему тихонько, что тот чертовски прав.
– Что ж, пожалуй, на сегодня достаточно. Всем спасибо и до следующей встречи.
Лидия порывисто встает первой и тут же быстрым шагом направляется к двери, ведущей в стационарное отделение.
Дверь Джорджа с другой стороны – для посетителей. Он с сожалением наблюдает, как рыжие кудри скрываются за белоснежной створкой.
Все постепенно расходятся, однако, стоит Джорджу пойти к двери, на его плечо опускается тяжелая ладонь.
– Не нужно считать меня жестоким, мистер Уизли. Ей очень трудно, но она должна преодолеть это, как вы когда-то преодолевали.
– Я не осуждаю ваши методы.
– Ваши сжатые кулаки говорят об обратном.
Удивленный взгляд вниз и сведенные вместе пальцы, до судороги, до белеющих костяшек. Расслабление дается с трудом, словно ладони уже занемели в одном положении.
И как можно было не заметить и не почувствовать?..
– У меня отрадные новости, Джордж, – Моррисон улыбается. – Наш следующий сеанс будет последним. Я выпишу заключение о вашем полном выздоровлении. Поздравляю.
Джордж некоторое время бессмысленно пялится на протянутую ладонь. Смущенный кашель заставляет его вздрогнуть и торопливо пожать чужие пальцы.
– Спасибо, доктор. Это… здорово, – хриплый голос.
Непонимание стучит в мыслях, одно предположение торопливо вытесняет другое, и почему-то совсем мало радости, совсем нет облегчения, которые так ожидаемы, так подходят к ситуации.
– До встречи, Джордж.
Моррисон уходит.
Джордж стоит посреди зала групповой терапии и смотрит на дверь, в которую вышла Лидия.
Почему-то ему хочется оказаться здесь снова.
Как можно скорее.
Почему?..
Спросить у Лидии, что ее задело в его словах.
Сказать Лидии, что все наладится, что жизнь – штука странная, и даже если время не лечит, оно притупляет. Любую боль, любую потерю. И могут прийти новые чувства, новые привязанности, пусть и не такие, как потерянные, оборванные.
Фред в мыслях счастливо улыбается перед смертью.
Джордж слабо улыбается в ответ.
Время, черт, притупляет боль.
Темнота кругом слепая, абсолютная. И никаких, совершенно никаких, звуков. Даже собственного дыхания и стука сердца не слышно.
Лидии страшно.
Она все ждет и ждет, когда же придет кто-нибудь, кто ее убьет.
Пожалуйста, пусть кто-нибудь убьет, ведь нет ничего хуже, чем сидеть в темноте, изредка нарушаемой только слабым светом, просачивающимся через небольшую решетку на уровне ее роста на одной из стен. Наверно, это дверь, однако, пошарив руками по той стене, Лидия не находит ни ручки, ни петель, ни выемок.
Нет ничего хуже, чем сидеть или лежать на скользком прохладном полу и заново переживать кошмарные моменты, то ли воспоминания, то ли видения, которые мучают, выкручивают душу, словно выжимают из нее остатки жизни.
Последнее, что она помнит ярко: Питер отдает ее каким-то людям, которые заставляют мир сжаться и пронестись мимо них на огромной скорости.
Затем темнота, глухота и прохладный пол.
Воспоминания о том, что случилось в промежутке, размыты, смазаны, улавливается только то, что кто-то снял боль, кто-то сказал «красавица» и пообещал, что все будет хорошо.
Лидия сидит, притянув колени к груди, раскачивается, изредка щипает себя за руку так, что наверняка на коже расцветает синяк, но в темноте не видно, или слегка прикусывает пальчик. Безумно надеется, что все закончится, и она проснется в своей постели – дома или у Питера, уже все равно – и снова все будет в относительном порядке.
Они будут бегать по Бейкон-Хиллс и пытаться спасти город от Ногицунэ… Или не будут… Ведь ее нет уже так долго, наверняка кто-то уже мертв, или Ногицунэ уже изгнан.
Как Стайлз допустил такое? Может быть, он ее ищет? Питер их предал?
Вопросы без ответов мучают-мучают-мучают.
Тишина кажется невыносимой, Лидия кричит и не слышит своего крика, только чувствует, как саднит в горле. Колотит кулаками по стенам, и ощущает, как по рукам стекает из сбитых костяшек кровь.
Иногда она забывается.
Засыпает прямо на полу, теряется в событиях, путает сон и явь.
Просыпается с надсадным криком, рвущимся из груди, потому что во сне… или наяву?.. Эллисон пронзает тонкий клинок, а Стайлз убивает себя, чтобы изгнать Ногицунэ.
Во сне… или наяву?.. она стоит посреди кухни в доме Хейлов и рыдает над разбитой чашкой, а Питер целует ее, сладко и приятно, пробуждая в теле тепло.
Во сне… или наяву?.. вода, от которой исходит пар, кажется ей ледяной и сжигает кожу на лице.
Во сне… или наяву?.. темнота вдруг рассеивается, и Лидия подлетает к проему решетки, жадно вглядываясь в пустой белый коридор.
Перед ней мелькает фигура, и Лидия сперва испуганно отшатывается от нее, потому что от фигуры веет смертью, словно она лежит в его кармане, как какая-нибудь скомканная бумажка. Затем она кричит, кричит чье-то имя, сама не слыша, какое, и не может это контролировать, а Банши внутри ее упивается чьей-то смертью – уже случившейся или только грядущей. Лидия тянется к фигуре, просовывая тонкие руки сквозь прутья, прутья, точно заколдованные, сжимаются вокруг ее рук до предела, оставляют синяки и сдирают до крови кожу, а Лидия все тянется и тянется, кричит и кричит. Хочет предупредить, хочет, чтобы он вытащил ее из темноты…
Во сне или наяву?..
Появляется еще одна фигура, а затем обе исчезают.
Лидия висит, просунув руки в решетку, еще некоторое время, а потом скользит по стене на пол, бессмысленно продолжая шептать губами «Фред».
И не слышит своего шепота.
Во сне или наяву?
– Во сне, Лидия, или наяву? – спрашивает ее Стайлз, грубо тряся за плечи. У Стайлза почему-то глаза черные вместо привычного цвета расплавленной карамели, и нет кожи на лице. С открытых мышц на кожу Лидии капает холодная и черная кровь.
– Очнись, Лидия! – говорит Стайлз.
Лидия делает глубокий вдох, достающий до самого дна легких.
Сон или явь?
Кто-то брызгает ей на лицо воду, чтобы привести в чувство.
Стайлз умоляет ее не уходить, хватаясь костлявыми пальцами за подол ее платья, там, в коридоре, где они оба сидят на холодном мокром полу, пока Эллисон умирает.
Эллисон умирает?..
Сон или явь?
Лидия просыпается, захлебываясь криком.
Вокруг уже не темно, и ее собственный крик проламывает тишину.
– Почему вы делаете это именно сейчас?
– Потому что вы сказали Лидии Мартин, что ощущение потери проходит. Нет вернее признака, что у вас оно – прошло.
– Я вам сто раз это говорил.
– А теперь сказали другому человеку. И – искренне.
Моррисон подписывает какие-то документы, складывает их в увесистую папку, на обложке которой значится имя Джорджа Уизли, и прячет все это в огромный шкаф на всю стену его кабинета, туда, где лежат еще папки, толще и тоньше, чем его, и все на букву «У».
Прощание выходит скомканным, но теплым.
Только сейчас, похлопывая обнявшего его напоследок доктора по плечу, Джордж понимает, что ему, в общем-то, помогли. И что помогать через его сопротивление и упорство было трудно – понимает.
– Спасибо.
– Не возвращайтесь, – смеется целитель.
Джордж выходит из кабинета.
Впереди его последние двести сорок три шага.
Мыслей нет.
Всю дорогу. Даже идя по отделению, он не слышит ни привычных звуков больницы, ни терзающих сознания воспоминаний, ничего нет. Просто – облегчение, затапливающее, теплое. И чуть-чуть горечи и сожаления. Пожалуй, за всех оставшихся здесь, не получивших избавления, в особенности – за Лидию.
Он выходит из ворот, и они плавно скрипят за его спиной, закрываясь сами собой.
Знакомо чиркает зажигалка. Дым пробивается в легкие и ласково обволакивает каждую клетку, отравляет, но чертовски приятно.
– Угостишь?
Рыжие волосы непослушным водопадом разбросаны по плечам. Лицо уже не такое бледное, как он помнит, с едва заметным румянцем и без ужасающих теней под глазами. Зеленые глаза пустые.
От ее красоты на мгновение перехватывает дыхание.
Он протягивает пачку.
– Крепкие.
Она равнодушно пожимает плечами и лезет тонкими пальчиками в картонный коробок.
– Прикуришь?
Джордж подносит к ее лицу зажигалку, а она поднимает руку, складывая ладошку домиком вокруг пламени, чтобы его не потушил ветер. Изящное запястье обхвачено тонким браслетом, как в маггловском ночном клубе, только не из бумаги, а из резины. Фиолетового цвета.
Она делает первый глубокий вдох, а потом судорожно кашляет от раздирающего горла яда. Однако на лице все равно – расслабленное удовольствие.
– Я предупреждал.
Она не отвечает, только упрямо затягивается еще, слабее, и выпускает дым через нос.
– Тебе нельзя здесь быть, красотка.
Удивленный взгляд. И ни единого слова.
Джорджу хочется ее разговорить. Он помнит это нежелание лишний раз открывать рот и разговаривать с человеком, который никогда, даже в теории, не заменит того, кого больше нет. Он помнит собственную грубость по отношению ко всем подряд, даже к матери и сестренке. Помнит, как каждое слово давалось с боем.
Джорджу хочется, чтобы она перешагнула через это. Быстрее и легче, чем он.
Он не знает, кем ей были те люди, о смерти которых говорил Моррисон. Достаточно того, что они были ее Фредом. Потерять разом двоих. Джорджу страшно представить, как это больно. Как это ломает.
– Я провел некоторое время в этой славной богадельне. Фиолетовый – значит, ты не должна даже из отделения выходить. Чтобы выходить за пределы больницы, нужен зеленый.
– А я тебя помню.
Он вскидывает брови. Странно, что в том состоянии, в котором она была в их прошлую встречу, она его запомнила. Снова становится интересно, чем же он так задел ее тогда…
– Да. Извини, я, кажется, в тот раз сказал что-то не то.
Она удивленно хмурится.
– В какой тот раз?
– На сеансе группой терапии.
– Я помню тебя из коридора… там, – ее передергивает, и она, отбросив наполовину выкуренную сигарету, обхватывает себя руками, словно ей холодно. На улице сегодня необычайно тепло для сентября.
Джорджу вдруг хочется прижать ее себе. Отогреть. Он давит бессмысленное желание.
– Я Джордж, кстати.
– Лидия. Сочувствую… насчет Фреда.
Сердце пропускает удар. На самом деле, сердце на секунду исчезает вовсе, словно Джорджа с такой силой ударяют по грудной клетке, что сердце вываливается из него, проломив позвоночник, сзади.
Уже пять лет. Никто. Не сочувствует. Ему. Насчет. Фреда.
Он ждет боли.
Заглушающей.
Затапливающей.
Ждет, когда перед глазами снова калейдоскопом промелькнет вся жизнь, начиная от первого шага, который они сделали, держась за руки, до последнего гребаного вдоха, который Фред предательски совершил один.
Ничего.
Фред улыбается в мыслях. И ничего.
Только грусть, ровная, спокойная.
Джордж усмехается. Кажется, он здоров?
– И я сочувствую. Не знаю, кто это был, но… сочувствую.
– Это были люди, которых я любила. Остальное не важно, верно?
– Верно.
Джордж запускает руки в карманы.
Ласковый теплый ветер треплет Лидии волосы, и она едва заметно улыбается, подставляя ему лицо.
– На улице не была уже несколько недель.
– Тебе бы обратно. Заметят – хуже будет.
Ему не хочется прощаться с ней.
Ему хочется, чтобы она точно так же, как он, могла пойти куда-нибудь в сторону от больницы Святого Мунго, оставив в ней все дурное, тяжелое, болезненное.
Он смотрит на ее помрачневшее лицо и думает, что оставить сеансы психотерапии наверняка проще, чем воспоминания о закрытом отделении.
– Да, пожалуй.
Она отворачивается и быстрыми шагами идет обратно к воротам. Оборачивается перед ними и чуть улыбается уголками губ.
– Прощай, Джордж.
– Еще увидимся, Лидия.
Никогда не прощаться. Джордж знает это на сто процентов. Никогда не прощаться, иначе человек потеряется в воспоминаниях. Пока ты не прощаешься с ним, он жив. Он есть.
Джордж пешком идет вдоль по улочке и думает за ближайшим углом аппарировать на Косую аллею. Как-то там поживает заброшенный магазинчик магических шалостей? Пылятся там, на мансарде, в кабинете, наброски когда-то вместе с братом созданных идей, которые непременно стоит воплотить в жизнь.
Ведь Фред жив: в воспоминаниях, в их общем деле, на колдографиях, в сердце.
Боль проходит.
Фред улыбается.
– Что вы чувствуете, Лидия?
– Вы когда-нибудь держали в руках все еще бьющееся сердце с уверенностью, что это сердце вашего умершего друга?
– Нет. Однако я определенно представляю, о чем вы. У меня был пациент с похожими… метафорами.
Осознавать происходящее, продираясь через застилающий разум туман, трудно.
Пережить заново смерть самых близких людей – практически невозможно.
Часы медленно отмеряют человеческий век, часы проходят плавно, незаметно, как минуты, и все это время Лидия сидит, обхватив руками колени, и бессмысленно смотрит в стену напротив.
Стена светло-бежевая, с небольшими пятнами неизвестного происхождения в одном месте, а чуть выше в стене видно отверстие от гвоздя, на котором когда-то висела какая-то картина. Или часы.
Хорошо, что часов, если они когда-то были, нет сейчас, иначе Лидия пришла бы в ужас от того, как много времени она проводит, сидя в своей постели и глядя в одну точку. Она отрывается от этого только чтобы принять лекарства, поесть, посетить сеанс групповой терапии или мистера Моррисона. Сперва она пыталась сбегать наружу, но как-то попалась санитарам, и теперь ее комнату запирают снаружи, а ее руку украшает фиолетовая резинка.
Лидия боится спать.
Боится заснуть и проснуться в темной и тихой комнате.
Боится заснуть и оказаться в холодном длинном коридоре.
Боится заснуть и проснуться в тот момент, когда Стайлз вонзает себе в грудь клинок.
Боится заснуть и осознать, что происходит.
Она спит благодаря зельям. Спит глубоко и спокойно, без сновидений и тревог, просыпаясь расслабленной и вялой.
Она старается пореже пить зелья.
Лидия Мартин, черт возьми, умирает каждый день.
От простого, огромного, давящего несказанной тяжестью осознания – их нет. Осознание ворочается в груди, теснит куда-то в бок сердце, и сердце болит. Осознание душит ее по ночам, и у Лидии не хватает сил, чтобы сбросить с шеи его цепкие холодные руки. Осознание убивает ее.
Их. Больше. Нет.
Сколько раз это нужно продумать, прокрутить в голове, сказать психотерапевту, выплакать, выстрадать, прокричать, чтобы отпустила боль?
Еще миллион? Миллиард?
Их. Больше. Нет.
Скрутиться на полу калачиком и пытаться не развалиться на части. Каждый день заставлять себя ходить, говорить, есть, дышать.
Умирать небольшими частями при каждом шаге, слове, вдохе.
Осознавать.
Выздоравливать.
Понимать, что сердце, разбитое вдребезги на полу кухни, – всего лишь чашка, о которую она резала руки. Вспоминать, что вода, под которой она стояла,
действительно была очень горячей, а не холодной, как чудилось. Признавать, что она не помнит, как оказалась кричащей на крыше дома Хейлов.
Встать перед зеркалом и сказать себе – Стайлз и Эллисон мертвы.
Лидия была на их похоронах.
Лидия начала сходить с ума спустя несколько недель после этого, окончательно замучавшись кошмарами.
Лидия потеряла связь с реальностью.
Связь тонкой нитью вкладывает в ее руки симпатичный доктор с приятный голосом.
Через прожигающую боль и отчаянное сопротивление нить крепнет, становится прочной, и ее уже не разорвать, и тогда приходится смириться.
Их больше нет.
Для этого пришлось пережить долгие месяцы прерывистых видений, ночных ужасных снов, перепугать Питера своим появлением на его крыше, сжечь себе лицо кипятком и несколько тысяч раз умереть в комнате закрытого отделения, где никто не услышит криков.
Однажды Лидия открывает глаза и смотрит на белый потолок над собой без ужаса. Без колотящегося сердца. Без паники и мысленных сомнений по поводу того, где она, и что происходит. Она точно знает – этой ночью она нормально спала сама, без зелий, она в психиатрической клинике, потому что у нее посттравматическое стрессовое расстройство из-за смерти близких друзей. Сама она банши, поэтому ей нельзя в обычную клинику, она лежит в клинике для магов и колдунов.
Однажды Лидия не сомневается, где сон, а где явь.
Лидия хочет сходить на могилу к Эллисон и Стайлзу.
Хочет поблагодарить Питера и Моррисона.
Хочет узнать, как там дела у того парня, Джорджа, брат которого погиб.
Увидеть маму.
Лидия сидит неподвижно и смотрит в одну точку.
Их больше нет.
Все еще отчаянно больно, до сжимающегося горла, до крика, до темноты перед глазами. Однако вполне себе реально. Их нет, и все тут.
Дверь открывается, и она вздрагивает, отрывая взгляд от стены. За окном алеет закат, и время терапии, ужина и лекарств уже прошло. На пороге палаты стоит доктор Моррисон.
– Тебя пришли навестить, Лидия. А еще с завтрашнего дня мы переводим тебя на дневное посещение – будешь приходить на сеансы и за лекарствами.
Сердце бьется так сильно, будто намеревается сбежать из груди. Лидия тянет губы в улыбке и пытается унять дрожь в руках.
Мир, к которому она привыкла за все эти недели, разлетается, и она не знает, как жить там, вне больницы, там, где она сходила с ума, там, где были любимые люди, а теперь – нет.
– Почему она плачет?
Она и сама не замечает, как по щекам текут слезы – легкие, облегченные, не жгущие глаза. Узнает голос.
– «Спусковой крючок» – она представила жизнь вне больницы, возможно, дом.
– Это пройдет?
– Непременно, к этому нужно привыкнуть и научиться справляться. В случае ухудшения вернем ее на стационарное лечение, а пока ей определенно пора адаптироваться к прежней жизни.
Они говорят тихо, в полголоса.
Лидия почти не слушает.
«Их больше нет, Лидия!».
«Время притупляет боль».
«Спаси меня, Питер».
«Это пройдет».
Посетитель берет ее за руку, и она сплетает свои пальцы с его.
– Я уверен, ты справишься, Лидия, – тепло улыбается Моррисон.
Она справится.
Они выходят за ворота клиники.
Лидия оборачивается на корпус с закрытым отделением. Никто не услышит криков, доносящихся оттуда. Лидия больше не кричит. Внутри больше не кричит банши, смирившаяся со смертью Эллисон и Стайлза.
Нет голосов, только шум улицы.
Нет иллюзий, только окрашенное алым небо.
Нет ничего, только теплое прикосновение рук.

 Библиотека
Библиотека  Фанфик «Никто не услышит»
Фанфик «Никто не услышит»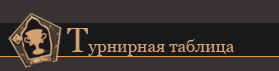


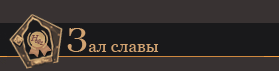





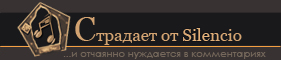

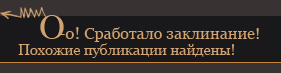
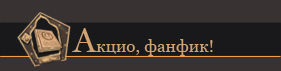
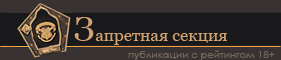











 Кубок Хогса 2020
Кубок Хогса 2020